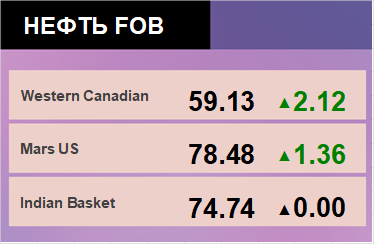О том, какие нефтяные месторождения идут на аукционы
Компании, деятельность которых связана с эксплуатацией природных ресурсов, не рвутся оплачивать мероприятия по их восстановлению, но по закону обязаны. В кризис эти расходы особенно обременительны. По этой же причине сокращаются государственные расходы на экологию. Поэтому Минприроды, которое отвечает за использование недр, лесов и водоемов и одновременно за их сохранение, приходится сейчас нелегко. Министр Сергей Донской рассказал о том, как справляется с ситуацией, и о проблемах нефтяной отрасли: в нераспределенном фонде у государства осталось всего 5% недр – если компании сейчас не начнут открывать месторождения, после 2020 г. в России может упасть добыча нефти.
– Достаточно ли финансирование экологических нужд, в том числе со стороны государства?
– Корректно сказать, что здесь уже создалась критическая ситуация. Только потребность в инвестициях в новые объекты инфраструктуры отрасли переработки отходов оценивается примерно в 150 млрд руб., что примерно в 10 раз ниже уровня инвестиций 2015 г. Затраты на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ – применяемые в мире технологии на основе самых современных достижений науки и техники и требований в сфере охраны окружающей среды. – «Ведомости») должны составлять от 1,5 до 2,5% ВВП ежегодно, а сегодня это 0,8% от ВВП. Но мы надеемся, что за счет введения новых норм закона об НДТ к 2025 г. они должны подняться до 1,5%.
– Большая часть платежей за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение отходов остается в региональных бюджетах. Куда их тратят власти регионов? Нужно ли сделать их целевыми – кажется, так было до 2002 г.?
– Целевое использование природоохранных средств – это действительно проблема. Получая 95% платы за негативное воздействие на окружающую среду, регионы в таком же объеме на охрану окружающей среды их не тратят.
Специалисты министерства проработали вопрос создания экологических фондов для улучшения ситуации с финансированием. Это инструмент, который прекрасно работает в большинстве зарубежных стран, например в США, Германии, Вьетнаме. Мы считаем его очень эффективным в сегодняшних условиях. Он был в свое время отменен в рамках административной реформы, тогда деньги на нужды экологии не направлялись в полном объеме, расходовались неэффективно, так как не было понятной подзаконной базы. Сегодня мы ведем переговоры с Минфином о внесении соответствующих изменений в бюджетное законодательство.
– Лет 5–7 назад пресса много писала об огромных штрафах за загрязнение окружающей среды, теперь тема в основном осталась в специализированных СМИ. Означает ли это, что сильно улучшилась ситуация, меньше нарушений или снизился общественный интерес к проблеме?
– В целом начиная с 2008 г. штрафы повышались постоянно, в среднем по разным статьям КоАПа они увеличились от 3 до 10 раз, а где-то и больше. Например, штрафы за невыполнение обязанности по рекультивации земель увеличились в 30 раз. За нарушения требований по охране недр ответственность возросла в 25 раз до 500 000 руб. За нерациональное использование природных ресурсов – с 80 000 до 1 млн руб. В сфере водных ресурсов штрафы выросли в среднем в 10 раз. При этом вводились и новые составы правонарушений с новыми размерами штрафов – например, при несоблюдении свободного доступа к водному объекту.
В этом году мы подготовили законопроект о повышении штрафов за неисполнение предписаний Росприроднадзора в десятки раз. Кроме того, в Госдуме разрабатывается новая редакция КоАПа, где предусмотрено повышение штрафов по статьям, по которым ранее изменения не вносились. То есть мы все это время ужесточаем административную ответственность соразмерно социально-экономическим условиям. Это дает результаты, Росприроднадзор фиксирует снижение правонарушений.
– Нефтеразливы – одно из самых опасных загрязнений, и оно очень трудно устраняется. Достаточно ли компании делают для решения проблемы или здесь тоже ставка на штрафы?
– Компании недостаточно обновляют изношенные фонды. В ближайшее время планируются поправки в закон «Об охране окружающей среды» и в КоАП: предприятия, ведущие добычу нефти, и организации, деятельность которых связана с риском разлива нефти и нефтепродуктов, должны будут разрабатывать планы по их предупреждению. Также мы вносим в КоАП изменения, которые повышают ответственность за нефтеразливы. У компаний должен появиться стимул тратить больше средств не на выплату штрафов, а на повышение надежности инфраструктуры и эффективности работы тех подразделений, которые отвечают за ее надежность.
Ответственность за нефтеразливы мы планируем ужесточить минимум вдвое. Штрафы предусматриваются в случае отсутствия и невыполнения планов предупреждения разливов нефти, а также за отсутствие или недостоверность сведений о разливе. В первом случае увеличим штраф до 500 000 руб., а за сокрытие факта разлива – до 1 млн руб. Как самая крайняя мера может быть рассмотрена приостановка работы предприятия.
– Сколько штрафов вы собрали в прошлом году?
– Поступления в бюджеты разных уровней от штрафов за различные нарушения в 2015 г. составили 876,6 млн руб., а в 2014 г. – 891,3 млн руб.
– Какие отрасли вызывают опасения не с точки зрения «абсолютного» воздействия, а с точки зрения отставания технологий и недостатка инвестиций в природоохранные мероприятия?
– Ситуация с природоохранными мерами хуже всего там, где управление осуществляется не бизнесом, а муниципальными учреждениями. Это прежде всего ЖКХ. Это очистные сооружения, построенные в 60-е гг. прошлого века, такие же водозаборы, система распределения ресурсов. В этом направлении развитие идет очень медленно, так как накоплен большой объем проблем и о прорывах говорить при их наличии просто невозможно. Сегодня, как я сказал, федеральный бюджет через ФЦП дотирует модернизацию предприятий этого сегмента. Если говорить об абсолютных показателях по негативному воздействию, то ЖКХ также занимает первую строчку по загрязнению поверхностных водных объектов.
Если говорить об объемах природоохранных инвестиций, то это 158 млрд руб. в год. Самый больший уровень инвестиций осуществляют предприятия обрабатывающей промышленности, за ними – добыча металлов и следом – производство нефтепродуктов и металлургия. Также большая доля инвестиций от сферы добычи полезных ископаемых.
– Недавно Роснедра провели аукцион на небольшой участок в Якутии с неподтвержденными запасами. Но там развернулась настоящая борьба: стартовый платеж был превышен в 161 раз. Как вы считаете, почему компании сейчас так активны?
– Сегодня можно констатировать дефицит участков недр нераспределенного фонда, с крупными запасами и хорошей инфраструктурой. Около 95% недр уже распределено, т. е. мы подходим к финальной черте в лицензировании. Поэтому компании активно участвуют в тендерах, чтобы прирастить запасы. Еще одно направление – освоение участков с трудноизвлекаемыми запасами. Но это скорее ориентир на будущее, поэтому участие в аукционах сейчас – наиболее эффективный способ получить месторождения или участки с высоким потенциалом открытия.
В 2018 году добудут 565 млн тонн нефти
Сергей Донской ожидает, что добыча нефти будет расти в 2017 г. и в 2018 г. достигнет 565 млн т за счет ввода большого количества новых месторождений. По его прогнозу, к 2020 г. добыча стабилизируется, а дальнейшая динамика будет зависеть от объемов геологоразведки. «Вы спрашивали, почему такой ажиотаж вокруг небольших месторождений, – компаниям просто нужны площади для геологоразведки, – объясняет министр. – Там, где есть хорошие перспективы, они, естественно, борются. Перспектива роста добычи будет зависеть от успехов развития технологий по освоению месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Эти два направления будут влиять на объемы добычи после 2020 г. Если успехов не будет, то возможно падение. Немаловажную роль будут играть стимулы, в том числе экономические, налоговые, и то, что может обеспечить снижение затрат, повысить эффективность работы компании». Но на объем добычи может, по мнению Донского, повлиять решение о замораживании добычи. Россия раньше допускала возможность замораживания производства. В конце сентября в Алжире снова пройдет встреча производителей нефти, напомнил он. Министр скептически относится к тому, что решение о замораживании будет принято: «Что компании должны будут заморозить? Добычу по нефти или нефти с конденсатом? Это первый вопрос. Второй вопрос: как будет производиться контроль? Для этого нет механизмов. Если в Алжире будет принято положительное решение по этому вопросу, то оно будет кратковременным».
– То есть компании готовы платить большие деньги даже за участок с ресурсами углеводородов?
– Да. Многие компании оценивают тот или иной участок как достаточно перспективный для будущего открытия.
– Аукцион на Эргинское месторождение не раз переносился. В чем причина задержки?
– Я бы не сказал, что это задержка. Любой аукцион, особенно по крупному месторождению, требует подготовки необходимых условий. Все идет в рабочем режиме. Мы подготовили условия, вышло соответствующее распоряжение правительства – оно предусматривает переработку сырья на территории России, ускоренный ввод этого месторождения, так как оно находится в удобном месте с точки зрения логистики. С другой стороны, есть дополнительные условия, которые предлагают отдельные участники рынка. Мы их рассмотрели, но поддержали точку зрения, что дополнительные обременения не нужны.
– В этом году успеете провести?
– Планируем, что в 2016 г. состоится.
– Нужны ли эти обременения? Например, если бы не было требования о переработке всей нефти в России для тендера на Эргинское месторождение, интересантов было бы больше, соответственно, это увеличивало бы шанс получить больше.
– Данное обременение не снижает интереса компаний к Эргинскому месторождению. При этом, исходя из условий, которые были обозначены, мы считаем, что доход государства в целом будет больше и раньше, чем обычно, поскольку предусмотрен ускоренный ввод.
– Новые условия в распоряжении правительства не появились?
– Нет. Мы ориентируемся на документ, который был подписан.
– После того как будет продано Эргинское месторождение, какие следующие? Например, Назымский и Ай-Яунский стоят в очереди?
– Как я сказал, сегодня реализуются объекты со все более сложными условиями: запасы, их качество, логистика, изученность. Назымский и Ай-Яунский – сложные участки, где требуется применение технологий по извлечению трудноизвлекаемых запасов, которые не всегда есть на рынке, иногда их нужно отрабатывать. В 2015 г. Назымский уже выставлялся на аукцион, была подана одна заявка. По правилам он был признан несостоявшимся. Мы планируем сейчас выставить эти участки на конкурс. Было бы неплохо, если бы пришел инвестор, может быть, даже иностранный инвестор, с опытом разработки трудноизвлекаемых запасов и технологиями. Это будет приветствоваться.
– Когда может состояться конкурс?
– До конца года в плане лицензирования Роснедр он стоит.
– Не кажется ли вам, что иногда конкурсы и аукционы, главным образом на крупные месторождения, по сути, заточены под одного претендента, так как только он отвечает тем требованиям, которые были установлены? Например, история с Гавриковским месторождением. Опять же это приводит к снижению конкуренции.
– Любой конкурс – это конкурирование не по деньгам, а по условиям. Когда мы прописываем условия конкурса, предполагаем, что будут решены сформулированные правительством задачи социально-экономического развития, реализованы сложные природоохранные проекты. Для аукциона ключевая задача – получить максимальный доход через разовые платежи. Иногда дополнительные условия прописываем и для аукциона, пример – как раз Эргинское месторождение. Но здесь конкуренция не снижается. Поэтому правительство может в ряде случаев ставить перед недропользователем конкретные задачи, но они точно не сформулированы под компанию, скорее – под регион или решение какой-то конкретной проблемы. Государство вправе так делать, хотя мы приветствуем все-таки аукционную форму. В подавляющем большинстве случаев Роснедра проводят аукционы.
– Как идет процесс актуализации лицензий?
– Актуализацией лицензий мы занимаемся второй год по поручению президента. В декабре должны ее завершить. Это разовая актуализация. Она необходима, чтобы привести все лицензии в одно измерение. На сегодняшний день по углеводородам актуализировано 80% лицензий, по твердым полезным ископаемым – 70%. После завершения процесса у нас будет хорошая база для ввода новой классификации, новых принципов по обороту геоинформации.

– Планы компаний серьезно смещаются?
– В ряде случаев – да. С учетом сегодняшних условий, конъюнктуры компании вышли с инициативой сместить на 1–3 года сроки работ на шельфе. Следует учитывать, что в предыдущие годы компании выполнили, а иногда перевыполнили объемы по сейсморазведке в разы. Поэтому мы работы сдвинули. При этом сейчас активно идет работа по импортозамещению. Ранее ряд экспертов выражали неуверенность относительно возможности строительства инфраструктуры для шельфа. Я считаю, что как раз сейчас есть возможность это сделать с учетом сдвига сроков. Есть возможность создать необходимые мощности для строительства техники для таких проектов.
– Год назад мы с вами говорили о влиянии санкций на освоение шельфа, необходимости самим строить суда, оборудование. Есть сдвиги?
– За год многое изменилось, сдвиги есть. Идет строительство верфей, в ряде случаев компании заложили задел для этого. С другой стороны, многие уже не так скептически относятся к возможностям отечественной промышленности. Многие увидели рынок, увидели направления, по которым идет развитие отрасли. В свою очередь, государство занимает активную позицию – принимает различные меры стимулирования и поддержки проектов.
– Как вы считаете, мы сильно отстали в освоении шельфа? Когда начнется полномасштабная коммерческая добыча в Арктике?
– Добыча на шельфе Арктике идет сейчас только на одном проекте – Приразломном месторождении. Конечно, здесь есть смещение сроков, но это не является критичным. В таком крупном проекте, как шельф, практически невозможно определить дату начала полномасштабной добычи. Невозможно сказать, что к 2029 г. мы запустим все проекты, понятно, что будут сдвиги, какие-то сложности. Но изначально, когда в 2012 г. планировали освоение шельфа, закладывали, что основной объем добычи будет после 2030 г. Пока эти планы не пересматривались. Работа на шельфе сложная и требует больших инвестиций. Мы шельф рассматриваем как резерв, который будем развивать.
– Планируется ли вернуться к идее доступа частных компаний на шельф?
– Такого ажиотажа, который был в 2012–2013 гг., сейчас нет. Это вполне естественно с учетом конъюнктуры, цен на нефть. На сегодняшний день вопрос скорее не в доступе, а в том, как госкомпании выполняют условия лицензий. Эта тема является ключевой. Мы распределили более 80% шельфа. Ключевая задача – обеспечить выполнение условий, которые прописаны в выданных лицензиях. Мы вышли с инициативой в правительство заморозить лицензирование. Но с оговоркой: если у госкомпаний есть общие интересы на какой-либо участок, он будет выставлен на аукцион. Дабы «Газпром» и «Роснефть» не ломали копья, а вместо этого померились кошельками. Сейчас обе компании претендуют на Мурманское месторождение.
– На какой срок будет заморожено лицензирование на шельфе?
– Пока мы это оцениваем. Думаю, на ближайшие год-два точно.
– В этом году компании перешли на новую классификацию запасов. Какой итог, что говорят компании?
– Это масштабная работа – переход на новую классификацию происходит раз в 30 лет. Компании в целом готовы работать по новой классификации, но ситуация не без сложностей. Для компаний это в какой-то мере изменение менталитета. Раньше за запасы отвечали геологи. Сейчас с учетом того, что в новой классификации основной акцент сделан на проектную документацию, экономику проектов, к вопросу постановки запасов на баланс подключаются технологи и экономисты. Переход на новую систему требует проведения большого объема работы. Поэтому для перехода на эту классификацию предусмотрен период в шесть лет, т. е. до 2022 г.
Сейчас наша новая классификация по углеводородам рассматривается для интеграции ее с классификацией ООН 2009 г. И в сентябре она может пополнить список, куда уже входит пять классификаций других стран, интегрированных с классификацией ООН. Это достаточно большой успех.
– А что это дает нашим компаниям?
– Они смогут использовать классификацию для оценки эффективности, для оценки месторождений финансовыми институтами, банками и т. д. В целом возможно использование классификации для международных сделок, но это скорее в перспективе.
– Россия подала заявку в ООН на расширение шельфа в Арктике. Каковы шансы, что ее одобрят?
– Заявку мы подали в прошлом году. В этом году в феврале я ее представил на комиссии ООН. Недавно ее подробно обсуждали в подгруппе. Рассмотрение заявки займет достаточно долгий период. Предыдущие заявки, например, рассматривались 3–5 лет. Мы более 10 лет собирали данные о территории, было проведено девять экспедиций. Эти данные подтверждают континентальную природу хребта Ломоносова, поднятия Менделеева, Чукотского плато. Обоснованность нашей позиции подтверждается выдержанностью осадочного чехла, непрерывностью и выдержанностью глубинных слоев. Все проведенные работы подтверждают, что территория, на которую мы претендуем, – это продолжение нашего континентального шельфа.
– Эта территория содержит много ресурсов нефти и газа?
– Мы претендуем на территорию площадью 1,2 млн кв. км. Эксперты оценивают ресурсы в 5 млрд т углеводородов. Это не много. Для сравнения: весь объем ресурсов углеводородов в стране – около 200 млрд т. Конечно, кроме нефти и газа территория содержит и другие виды ресурсов.
– В отношении Южно-Киринского месторождения «Газпрома» были введены санкции. Как это повлияло на сроки и планы по освоению месторождения?
– Могу сказать, что «Газпром» продолжает успешно работать на месторождении. Бурение запланировано на 2017 г., ввод месторождения в эксплуатацию – на начало 2022 г. Изменения в лицензию не вносились.
В целом рынок услуг по бурению и морским судам американскими компаниями не ограничивается – есть, например, китайские компании, которые с «Газпромом» сотрудничают. Сотрудничество со странами АТР вообще правильное направление с учетом географии проекта.
Кроме того, у компании есть и свои буровые, и свои суда, и дополнительно планы по импортозамещению.
– По условиям тендера на Сухой Лог у государства останется 25%. Зачем потребовалось это условие? Означает ли это, что государство тоже будет инвестировать?
– Нет, государство инвестировать не будет. Государство будет контролировать процесс освоения месторождения. Я сам летал на месторождение. Оно интересное и перспективное – в регионе, где давно ведется золотодобыча, но где еще необходимо решать социальные, экономические вопросы. В перспективе эти 25% государство может продать, но по более высокой цене за счет того, что месторождение будет капитализировано, так как там наверняка будут сделаны интересные открытия после геологоразведки.
– Правда, что выставить на аукцион месторождение просил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов?
– Руководитель «Ростеха» высказывал свою заинтересованность. Но на самом деле заинтересованных компаний намного больше. Не все компании публично озвучивают свой интерес.
Планы «Росгеологии»
– Несколько лет назад вы возглавляли «Росгеологию». Как вы видите перспективы развития компании? Стала ли она той компанией, которой задумывалась изначально?
– Многие сомневались, что получится собрать вместе большое количество разрозненных, сложноуправляемых геологических предприятий. На первом этапе была задача консолидировать 37 предприятий. Очень многие из них были убыточными. Например, долг «Иркутскгеофизики» составлял 1,5 млрд руб. Финансовое положение «дочек» «Росгеологии» удалось улучшить. Сама компания увеличила объем работ. Компания создавалась для активизации работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы. И сейчас готовится к реализации крупных проектов не как сервисная компания, а как компания геолого-разведочная, задачей которой является открытие месторождения. Компания вышла на международные рынки. Начала работу в Судане, Египте, Алжире, Индии, Пакистане, ЮАР.
– Есть ли планы провести IPO, привлечь частных инвесторов?
– В ближайшей перспективе мы этот шаг не рассматриваем. Сначала надо провести все реорганизационные мероприятия.
– Что предусматривает долгосрочная стратегия «Росгеологии»?
– К 2020 г. «Росгеология» должна стать эффективным государственным холдингом, выполнять весь спектр услуг геологоразведки и занимать не менее 20% в денежном выражении от объема российского рынка.
Сергей Донской
Родился в 1968 г. в Электростали Московской области. Окончил Государственную академию нефти и газа им. Губкина.
1992 инженер в РАО «Газпром»
1999 начальник отдела Минтопэнерго России
2001 начальник отдела в ОАО «Зарубежнефть»
2005 директор департамента экономики и финансов Минприроды РФ, с июля 2008 г. – замминистра
2011 стал гендиректором госхолдинга ОАО «Росгеология»
2012 назначен министром природных ресурсов и экологии России с 21 мая